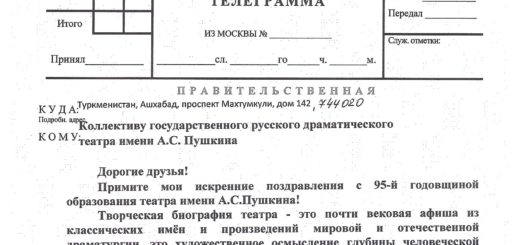Людмила Глазовская
Отрывок из повести «Звезды над Нохуром»
…Много лет спустя, наведавшись в эти края, на узкой развилке пологого хребта я повстречалась со стариком-туркменом. Он приветливо поздоровался со мной и учтиво уступил дорогу.
– Чей дочка будешь – Нина, Оля? – неожиданно спросил старик, отчего я вздрогнула, вскинув глаза на незнакомца. В длинном, нараспашку, туркменском халате и шапке-тельпеке, он стоял, привычно скрестив крючковатые пальцы на отполированной до белизны палке-посохе. Из-под лохматой папахи струился на меня добродушно-прищуренный взгляд, само же лицо являло совершенство черт, незримо уходящих в многовековую генетику обитателей этих мест.
В ответ старик удовлетворенно кивнул головой и принялся перечислять имена моей родни, включая убитых на войне маминых братьев.
– Всех моя помнит! – горделиво произнес чабан с лицом полководца в окружении невесть откуда ссыпавшейся детворы, чьи смуглые чумазые физиономии выдавали очевидную принадлежность нохурли – племени, особняком стоящего в иерархии туркменских племен из-за отдаленности и сложности здешнего горного ландшафта.
Вот в эту-то глухомань и занесла судьба развеселую русскую семью, где во главе стоял мой дед – фельдшер по образованию, врач по призванию, толстовец по убеждениям – Трофим Степанович Щукин.
– Ш-шукин не надо бил из Нохур ехат, – нажимая на «ш», продолжал между тем мой визави, выдавая абсолютное знание предмета затеянной им беседы.
– Ми говорил: «Оставайс, похороним как человек, с русский мулла. Старая стала, сына Володя поехала», – вплетает чабан в свой монолог имя оставшегося в живых маминого брата.
– Володя смешная бил, дети линейка лупыл, – старик еще хитрее сощурился, выражая этим некоторое поощрение экстравагантным поступкам моего дядьки (тот после войны недолго учительствовал в Нохуре).
– Нина как? – интересуется яшули уже моей мамой и в ответ удовлетворенно кивает: «Ягши! Ягши!».
– Заходы чай пит. Мой старух Анна-Назар дружил, – по-свойски подмигивает собеседник, произнося имя бабушки – Анна Елеазаровна – на туркменский манер.
Я вежливо благодарю, обещая зайти в следующий раз, – меня призывно требуют гудки поджидающей неподалеку машины.
– Кыш! Кыш! – старик взмахивает палкой, отгоняя налипшую ребятню, и она горохом рассыпается по пологому склону, сверкая панцирными пятками…
***
Когда Союз будут резать по-живому, возвращая народы в их национальные квартиры, никому из потрошителей страны и в голову не придет, на что они замахнулись.
Весть о войне в большую и дружную семью Щукиных – Третьяковых принес молодцеватый начальник погранзаставы, которого сестры Оля и Нина заметили, едва он вынырнул из-за поворота крутой, ухабистой дороги, ведущей к дому.
На большой открытой террасе затевался шашлык по случаю приезда брата Владимира из Ташкента, где тот учился на геолога. Со дня на день поджидали с финской войны Аркадия, отслужившего от звонка до звонка на полуострове Ханко. Старший, Борис, тоже обещал подъехать в отпуск со своей семьей с Дальнего Востока, где офицерствовал после окончания Харьковского высшего артиллерийского училища.
Владимир привез в подарок сестрам патефон, и вот теперь, смеясь и дурачась, они затеяли на террасе танцы.
…Лейтенант шел, ритмично похлопывая тонким прутиком по голенищу сапога, и этот его жест, изящный и зловещий одновременно, заставил сестер замереть в предчувствии беды. Выслушав гонца, все онемели, и лишь Владимир, минутой ранее рассмешивший сестер очередной шуткой, глухо выдавил: «Это надолго. Нас всех перебьют…», – на что мать, замахав на него руками, бросилась кликать младшего сына, восемнадцатилетнего Николая.

Борис 
Аркадий 
Владимир 
Николай
Николай, Николашка, как звали его в семье, наотрез отказался учиться дальше, вопреки требованиям отца, и бредил лошадьми, туркменскими ахалтекинцами. Стреножа своего верного аргамака, он без устали гарцевал по крутым склонам, прилегающим к Нохуру. Впрочем, скорее сам Нохур прилег на дно большой горной чаши, образованной стройным хороводом кряжистых вершин.
Все, что окружало Николашку, – природу, людей, животных, само небо, – он воспринимал частью своей бессмертной души, и она рвалась в молодом порыве абсолютной любви к жизни. Собственно, и учиться он отказался, целиком отдавшись стихии этих мест с их завораживающе дикой красотой.
Николашка любил всех и вся вокруг себя и сам был любимцем семьи, затейником и артистом. Своими добродушными остротами он смешил сородичей до припадков, до коликов в животе.
Каким-то особым чутьем усвоил Николашка вежливо-сдержанную манеру общения с соседями-туркменами. Здесь тоже ценился юмор, но он лишь оттенял глубинные движения души, что за давностью лет сложились в незыблемый строй национального характера. Николашка растворился и в этой среде, растопив добродушие своего сердца в природном добродушии туркмен. Семью доктора – единственную на всю округу русскую семью – они восприняли частью собственного социума, а Николашку полюбили как родного сына или брата. Он ответил тем же, заговорив по-туркменски с редкостным проникновением в гортанно-музыкальный строй чужой речи.
…Оседлав своего аргамака, больной, с высокой температурой, отправился Николашка для отметки в Бахарден, в районный военкомат, откуда, не разрешив попрощаться с родными, его эпатировали на фронт в суровом солдатском вагоне. Через горные перевалы конь вернулся домой один, и бабушка долго вспоминала, как катились из его глаз самые настоящие слезы.
Николашку убили в сорок втором под Смоленском, где пала почти вся советская кавалерия. Первую похоронку принес в дом аульный почтальон Шихи. Сдержанный и молчаливый, он не смог удержать скупой мужской слезы при виде помертвевшей от горя русской матери. Горе туркменских матерей Шихи разделял более хладнокровно, остужая тем самым бурную реакцию женщин, чьи неистовые причитания неслись из разных уголков аула вплоть до окончания войны.
Аркадий так и не доберется до дома, сгинет в Ленинградском котле, и родители не дождутся даже весточки о его смерти. В семье всю жизнь, сначала с грустью, потом с улыбкой, вспоминали, как, переняв у отца некоторые приемы врачевания, Аркашка предпринял попытку самому себе сделать обрезание, по-своему глубоко усвоив полезность этой процедуры. Операция оборвалась диким ором, и, бледный и окровавленный, он прибежал в амбулаторию за помощью к отцу.
«Аркашк маладетц, савсем туркмен могла стать», – замечали при случае односельчане, не подозревая, что интересы этого любознательного парня простирались много дальше хирургических опытов. Приезжая на каникулы из Ашхабада, где учился в сельскохозяйственном институте, он ночи напролет бился над какой-то ракетной установкой, по совету брата Бориса отправил свои чертежи и расчеты в Москву, откуда последовали дополнительные вопросы и уточнения. Вслед за ними пришел утвердительный ответ и вызов в столицу. Аркашка засобирался в путь, но неожиданно нагрянуло известие, что его изобретение было открыто кем-то ранее…
Борис погибнет уже в Румынии. Неся эту похоронку, Шихи невольно зажмуривает глаза, боясь даже представить себе реакцию Анна-Назар. Он знает, что это ее самый любимый сын, да и понятно почему – рослый, стройный, красивый, с особой военной выправкой. Треугольнички от Бориса, подписанные бисерным каллиграфическим почерком, Шихи чаще всего приносил в этот дом, где его усаживали на высокий табурет посреди просторной комнаты, и, пока Анна-Назар читала, он застенчиво водил глазами по непривычной обстановке русского жилища, задерживаясь взглядом на портрете седого насупленного старика, очень похожего на самого доктора.
– Ш-шукин, это ты? – неизменно спрашивали посетители, впервые появляясь на пороге дома.
– Это Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель, – весомо отвечал дед, с чем гости немедленно и радостно соглашались.
Шихи был грамотным, читал и говорил по-русски. Его уважение к семье доктора росло по мере того, как, сидя на табурете, он внимал строгому взгляду со стены, чуя в нем некое назидание самому себе. Со временем Шихи сделал карьеру, стал начальником средней руки на Ашхабадском почтампте. С бабушкой они водили нежную дружбу и, встречаясь, подолгу доверительно разговаривали.
Последнюю похоронку Анна-Назар не восприняла, молча отложила в сторону и пустыми глазами, к ужасу почтальона, уставилась в угол комнаты. К утру она поседела.